СЕМЁНКОВО.
НАЗАД,
В БУДУЩЕЕ
НАЗАД,
В БУДУЩЕЕ
О том, как музей
под открытым небом
деревней стал
под открытым небом
деревней стал
Любите ли вы деревню? Странный вопрос. Как можно любить то, чего не знаешь. Да и за что ее любить? «Не выучишься — будешь коров пасти!». Да и как их пасти, этих коров... Уж лучше учиться. В ожидании загородного рейсового автобуса еще и не такое придет в голову. Пропала суббота... Мартовское тусклое солнце тоже пропадало где-то высоко в полусонных облаках. Перспектива провести полдня «в поисках утраченного» казалась утопией. Сельской утопией. Деревня-то не настоящая...
ГДЕ ТВОИ КОСЫ, ГДЕ САРАФАНЫ? ИХ БОЛЬШЕ НЕТ...
- Вы, чо ли, студенты? Дак проходите, гостями будете.
Плыть, точно уточка, то есть плясать так же ровненько да «плавно круг держать» обучает гостей в доме Улановых научный сотрудник экскурсионно-просветительского отдела Анастасия Дурягина. Одетые по «городской моде» ― джинсы, кроссовки, мы не решаемся выйти в круг. Спроси нас, какие сарафаны в каких вологодских деревнях носили девки на выданье, мы и не знаем. А это, оказывается, целая наука... И степенными надо быть, и руками вертеть не положено. А то замуж не возьмут. Честно говоря, мы немного призадумались. Может, ну их, эти джинсы?..
Плыть, точно уточка, то есть плясать так же ровненько да «плавно круг держать» обучает гостей в доме Улановых научный сотрудник экскурсионно-просветительского отдела Анастасия Дурягина. Одетые по «городской моде» ― джинсы, кроссовки, мы не решаемся выйти в круг. Спроси нас, какие сарафаны в каких вологодских деревнях носили девки на выданье, мы и не знаем. А это, оказывается, целая наука... И степенными надо быть, и руками вертеть не положено. А то замуж не возьмут. Честно говоря, мы немного призадумались. Может, ну их, эти джинсы?..
МАСЛО ВОЛОГОДСКОЕ. НАТУРАЛЬНОЕ
В доме Юрова пригрелся кот Барсик. Пока он тут один-одинешенек на скотном дворе, возле маслица да сметанки от знаменитых вологодских буренок. Правда, ни буренок, ни масла от них пока нет — не сезон. Зато здесь разместилось целое крестьянское подворье по производству масла. К технологии сладкого, тающего во рту вологодского масла, необычайно ценившегося на французском столе, приложил руку Николай Васильевич Верещагин. Талантливый маслодел, он всю свою жизнь посвятил этому сытному делу. Из 12 тысяч тонн масла, производимого на вологодской земле в начале прошлого века, восемь поставлялось за границу. И называлось оно тогда «парижским». Но заморское название не прижилось, масло-то «вологодское»!
- Значит, заливаем молоко в сепаратор, а уже сливки — в маслобойку (стянутую обручами деревянную бочку, которая вращается вокруг своей оси),— терпеливо объясняет нам Людмила Полиектовна Белякова, смотритель Музея Масла.
Это сколько же масла можно сбить в таком бочонке за лето? Вопрос на засыпку. Смотря сколько коров в хозяйстве!
- Значит, заливаем молоко в сепаратор, а уже сливки — в маслобойку (стянутую обручами деревянную бочку, которая вращается вокруг своей оси),— терпеливо объясняет нам Людмила Полиектовна Белякова, смотритель Музея Масла.
Это сколько же масла можно сбить в таком бочонке за лето? Вопрос на засыпку. Смотря сколько коров в хозяйстве!
Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ, СКАЗАЛА МНЕ СЕСТРА
На хрупких плечах заведующего Архитектурно-этнографическим музеем «Семенково» Натальи Олеговны Киршиной — 11 домов, 17 хозяйственных построек, 2 мельницы, а еще маленькая сельская часовня и уникальная Георгиевская церковь конца XVII века. Что-то поддерживается в относительно хорошем состоянии, что-то еще нуждается в реставрации... Дома-памятники деревянного зодчества конца XIX века, бережно, по бревнышку перевезенные из Тарногского, Тотемского и Нюксенского районов Вологодской области — с территории Средняя Сухона, выстроились, как часовые времени, в деревню, которой и на карте-то никогда не было. Казалось бы, исторический парадокс... Но, по необратимому закону генетической памяти, деревня прижилась, пустила корни, заговорила, запела на родном нюксенском говоре. Как и когда это произошло, никто теперь и не вспомнит, но однажды музейщики ощутили живую родственную связь с теми, кого изучали в качестве объекта с помощью архивных документов. Духовную связь с той самой «исчезающей русской деревней».
Читайте комментарий эксперта
Читайте комментарий эксперта
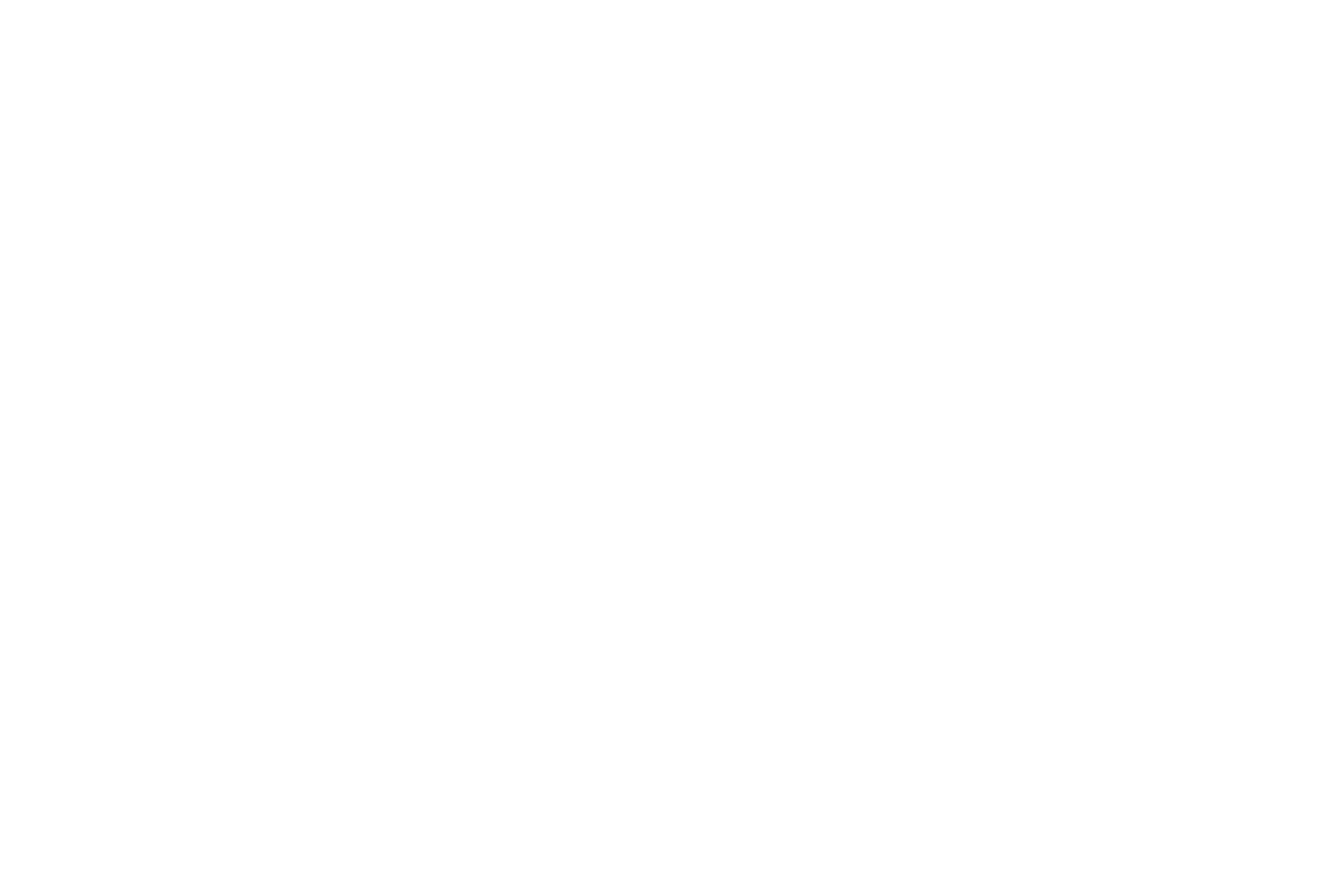
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ СЕМЕНКОВО, или «СЕМЬ СИМЕОНОВ» НА МУЗЕЙНЫЙ ЛАД
По правде говоря, в Вологодском районе не одна, а три деревни под названием Семенково. Две из них ― севернее, по дороге в сторону Архангельска, в обратном направлении от музея Семенково. Лет десять назад если говорили: «Поехали в Семенково!», то ехали как раз в те места, и вопроса не возникало, в какое именно село. Откуда взялось еще одно Семенково, если их и без того на карте хватает?
- Не знаю, почему так много Семенково,― удивляется Наталья Киршина. ― Помню, как в детстве сказку читали на уроке, про семь Симеонов, и учительница спросила нас, почему же их всех зовут одинаково. Я подняла руку и сказала: это же как будто образ народа русского, людей, которые и то, и другое умеют… Да и, наверное, Семенов в деревнях было очень много, а мы здесь и ведем разговор о простых русских мужиках.
Читали ли вологжане сказку про семь Симеонов, сказать трудно, только почему-то безымянный музей деревянного зодчества, архитектурно-этнографический, историко-деревянный, музей-заповедник (и как его еще только не называли!) народ, не сговариваясь, окрестил Семенковым. И сегодня в семье музеев под открытым небом это имя и узнаваемо, и уважаемо: «Семенково» не первый год выигрывает крупные престижные гранты, создает уникальные научно-исследовательские проекты, придумывает инновационные экскурсионные программы... А Кот Семен (понятно, ученый, раз при музее) стал первым помощником семи Симеонам… ой, то есть научным сотрудникам ― одновременно и артистам, и затейникам, и хранителям народной культуры.
- Не знаю, почему так много Семенково,― удивляется Наталья Киршина. ― Помню, как в детстве сказку читали на уроке, про семь Симеонов, и учительница спросила нас, почему же их всех зовут одинаково. Я подняла руку и сказала: это же как будто образ народа русского, людей, которые и то, и другое умеют… Да и, наверное, Семенов в деревнях было очень много, а мы здесь и ведем разговор о простых русских мужиках.
Читали ли вологжане сказку про семь Симеонов, сказать трудно, только почему-то безымянный музей деревянного зодчества, архитектурно-этнографический, историко-деревянный, музей-заповедник (и как его еще только не называли!) народ, не сговариваясь, окрестил Семенковым. И сегодня в семье музеев под открытым небом это имя и узнаваемо, и уважаемо: «Семенково» не первый год выигрывает крупные престижные гранты, создает уникальные научно-исследовательские проекты, придумывает инновационные экскурсионные программы... А Кот Семен (понятно, ученый, раз при музее) стал первым помощником семи Симеонам… ой, то есть научным сотрудникам ― одновременно и артистам, и затейникам, и хранителям народной культуры.
Наталья Киршина: «Музей нужен обществу. Люди находят в нем источник радости, мудрости, саморазвития и самореализации»
Человек увлеченный и увлекающий за собой коллег, волонтеров, туристов, Наталья Киршина убеждена, что Семенково не столько сельский, сколько этнографический туризм. Воссоздающий размеренный уклад крестьянской жизни конца позапрошлого века. Позволяющий людям не просто прикоснуться — а погрузиться в деревенский быт, в условиях реального времени. И тогда происходят поразительные вещи. Ты не успел калитку в Семенково отворить, как становишься совершенно другим человеком. Что-то в тебе просыпается важное, настоящее, вечное.
Читайте комментарий эксперта
Читайте комментарий эксперта
ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
Не редкость, когда музеи пробуждают к жизни документы, лежавшие под спудом истории. Но, согласитесь, не часто музеи воссоздают прошлое из сопоставления характеров и судеб, опираясь на законы мироздания, человеческой природы и здравого смысла.
Недаром музейный проект 2016 года так и назвали — «Право на судьбу». За основу взяты документальные факты из жизни реальных исторических личностей. Дело крестьянки Анны Ингасоровой, которая была арестована на 7 суток за то... что она пила чай. Или судебный иск Анны Слуховой к деревне Хохлево за исчезнувшее из ее повити (с сеновала) скошенное ею сено.
Почти 30 выпускников Школы музейной интерпретации, органично вписавшейся в «Право на судьбу»,— разные люди разных профессий. Их буквально заново учат ходить, говорить и одеваться. А они засыпают вопросами музейщиков, экспертов, этнографов: а как было в те времена? а как поступали в этом случае? а как правильно сказать? «От-рожа!» — говорит один из ребят о своем персонаже Ваське, который нанялся на работу в дом, взял задаток и сбежал недоработав. Такая судьба...
А в самом деле, как научиться читать исторические документы, чтобы не попасть в ловушку превратного представления человека XXI века о крестьянской «тяжелой доле»?
Недаром музейный проект 2016 года так и назвали — «Право на судьбу». За основу взяты документальные факты из жизни реальных исторических личностей. Дело крестьянки Анны Ингасоровой, которая была арестована на 7 суток за то... что она пила чай. Или судебный иск Анны Слуховой к деревне Хохлево за исчезнувшее из ее повити (с сеновала) скошенное ею сено.
Почти 30 выпускников Школы музейной интерпретации, органично вписавшейся в «Право на судьбу»,— разные люди разных профессий. Их буквально заново учат ходить, говорить и одеваться. А они засыпают вопросами музейщиков, экспертов, этнографов: а как было в те времена? а как поступали в этом случае? а как правильно сказать? «От-рожа!» — говорит один из ребят о своем персонаже Ваське, который нанялся на работу в дом, взял задаток и сбежал недоработав. Такая судьба...
А в самом деле, как научиться читать исторические документы, чтобы не попасть в ловушку превратного представления человека XXI века о крестьянской «тяжелой доле»?
ЖЕРНОВА ДЛЯ МУЗЕЯ, или ПОЧЕМУ МЫ НЕ УМЕЕМ РУБИТЬ УГОЛ?
Как говорил наш земляк Василий Иванович Белов, еще до войны на Вологодчине каждый подросток умел «рубить угол», то есть дом ставить. Куда ушла это исконная плотницкая жилка из молодого поколения, почему перевелись мастера-золотые руки... Слабый на топор мужик — такая характеристика не льстила вологодскому крестьянину. Хотя с трудом верится, что такие в русских деревнях были: избы — как на подбор, храмы — один другого краше. И строили без чертежей, одними топорами.
- Главное — пропорции. Если заходишь в храм, и все на душу ложится, значит, правильно сделан. Строили, как мера и красота подсказали,— говорит заведующий реставрационно-строительным отделом Степан Александрович Анкудинов.
Он, похоже, на музейной территории каждую досочку, каждое бревно наперечет знает. Как бы управлялись, если бы вместо 12,5 гектара в восьмидесятые годы музею отдали, как и планировалось с размахом, порядка 100 гектаров? Время было другое. Были земли государственные — стали частные. Но всплеск интереса к Семенково далеко за его пределами позволяет и сохранять, и строить, и, возможно, расширять территорию. Тогда и о сельском туризме можно всерьез задуматься. А люди к музею тянутся, чего стоит хотя бы история с жерновами.
- Главное — пропорции. Если заходишь в храм, и все на душу ложится, значит, правильно сделан. Строили, как мера и красота подсказали,— говорит заведующий реставрационно-строительным отделом Степан Александрович Анкудинов.
Он, похоже, на музейной территории каждую досочку, каждое бревно наперечет знает. Как бы управлялись, если бы вместо 12,5 гектара в восьмидесятые годы музею отдали, как и планировалось с размахом, порядка 100 гектаров? Время было другое. Были земли государственные — стали частные. Но всплеск интереса к Семенково далеко за его пределами позволяет и сохранять, и строить, и, возможно, расширять территорию. Тогда и о сельском туризме можно всерьез задуматься. А люди к музею тянутся, чего стоит хотя бы история с жерновами.
ПАМЯТЬ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ: В КАЖДОМ «ГОРОДСКОМ» ЖИВА РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ
В основном сотрудники музея говорят о себе: мы люди городские. Но у каждого в его собственных «музейных запасниках», если поискать, хранится свое воспоминание, своя незримая духовная ниточка, связывающая с деревней. Дмитрий Мухин вспоминает, как мальчишкой ходил пасти коров, целых 50 голов, от чего было, в общем-то, даже страшновато: попробуй справиться с таким стадом! У Натальи Киршиной сохранилась в семье целая легенда о целебных камушках ее прабабушки Елизаветы. Марина Репина поняла, что такое генетическая память, когда подружилась с семенковской лошадью Малышкой. Такая у них дружба завязалась, что Малышка, едва заслышав ее голос, чуть ли не рвалась с привязи. Потом выяснилось, что дед, которого Марина никогда не видела, был конюхом... И у каждого музейщика своя история. Своя историческая память. Так что не случайные люди приходят сюда работать, в Семенково.
...Любите ли вы деревню? Странный вопрос. Как можно ее не любить?
Несколько часов, прожитых нами на заповедной территории, что-то неуловимо поменяли в нас. Здесь дышится по-особому. Здесь звенит живая, простодушная, незаслуженно забытая нами, «городскими», родная речь. Птичек закликать, в пляс пуститься — почему бы и нет? Душа просит! Здесь учишься понимать, как жили до тебя, чем жили. И чем дольше говоришь с семенковцами, тем больше проникаешься этим бережным, доверительным, пытливым отношением к своему прошлому, в котором есть ответы на вопросы, кто мы, какие мы и какое оно, наше будущее... Можно ли его заслужить, утратив историческую память... Сельская утопия обернулась обретением смыслов. Деревня-то настоящая.
P. S. Пока мы собирали материал о музее, музей разыскал информацию о нас.
Несколько часов, прожитых нами на заповедной территории, что-то неуловимо поменяли в нас. Здесь дышится по-особому. Здесь звенит живая, простодушная, незаслуженно забытая нами, «городскими», родная речь. Птичек закликать, в пляс пуститься — почему бы и нет? Душа просит! Здесь учишься понимать, как жили до тебя, чем жили. И чем дольше говоришь с семенковцами, тем больше проникаешься этим бережным, доверительным, пытливым отношением к своему прошлому, в котором есть ответы на вопросы, кто мы, какие мы и какое оно, наше будущее... Можно ли его заслужить, утратив историческую память... Сельская утопия обернулась обретением смыслов. Деревня-то настоящая.
P. S. Пока мы собирали материал о музее, музей разыскал информацию о нас.
Над выполнением кейс-задания «Сельская утопия: зачем идти в музей «Семенково» сейчас» работала студенческая команда 2 курса направления подготовки «Журналистика» филологического факультета Вологодского государственного университета:
АЛИНА МАХЛИНА (текст, фото, видео, дизайн)
ЯНА УВАРОВА (текст, видео, монтаж)
ПОЛИНА ТУРКИНА (видео)
ЕЛИЗАВЕТА СТУКАЛОВА (фото)
МАРИЯ МАЛЮТИНА (фото)
НИКИТА ТРУШКОВ (текст, фото)
АРИНА ПАНИЧЕВА (видео)
студентка 2 курса исторического факультета
АЛЁНА ГОРОХОВА (монтаж)
куратор группы Ж-21 старший преподаватель
МАРИНА СМИРНОВА
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Архитектурно-этнографического музея «Семенково», лично заведующему музеем Наталье Олеговне Киршиной, научным сотрудникам Дмитрию Александровичу Мухину, Степану Александровичу Анкудинову, Юлии Сергеевне Черноусовой, Анастасии Александровне Дурягиной, Юрию Леонидовичу Матвееву, Кириллу Валерьевичу Дубинину, Ольге Константиновне Гладышевой, Наталье Алексеевне Кильдюшовой, Ксении Евгеньевне Политовой за доброе отношение и понимание.
ЯНА УВАРОВА (текст, видео, монтаж)
ПОЛИНА ТУРКИНА (видео)
ЕЛИЗАВЕТА СТУКАЛОВА (фото)
МАРИЯ МАЛЮТИНА (фото)
НИКИТА ТРУШКОВ (текст, фото)
АРИНА ПАНИЧЕВА (видео)
студентка 2 курса исторического факультета
АЛЁНА ГОРОХОВА (монтаж)
куратор группы Ж-21 старший преподаватель
МАРИНА СМИРНОВА
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Архитектурно-этнографического музея «Семенково», лично заведующему музеем Наталье Олеговне Киршиной, научным сотрудникам Дмитрию Александровичу Мухину, Степану Александровичу Анкудинову, Юлии Сергеевне Черноусовой, Анастасии Александровне Дурягиной, Юрию Леонидовичу Матвееву, Кириллу Валерьевичу Дубинину, Ольге Константиновне Гладышевой, Наталье Алексеевне Кильдюшовой, Ксении Евгеньевне Политовой за доброе отношение и понимание.

© Вологодский государственный университет
